 |
РУБРИКА "ARTEFAKTUS"Огней так много золотых…
 История наружного освещения городов не покрыта мраком неизвестности. Всё, разумеется, начиналось с костров. Долгое время люди пользовались свечами, факелами. На греческом языке факел - fanos, уменьшительное от факел - fanarion (в словаре В.И. Даля, кстати, упоминается и второй вариант слова - "фанарь"). Так что слово фонарь происхождения очень древнего. История наружного освещения городов не покрыта мраком неизвестности. Всё, разумеется, начиналось с костров. Долгое время люди пользовались свечами, факелами. На греческом языке факел - fanos, уменьшительное от факел - fanarion (в словаре В.И. Даля, кстати, упоминается и второй вариант слова - "фанарь"). Так что слово фонарь происхождения очень древнего.
Вплоть до 1930-х годов в разных городах страны выходили по вечерам на работу фонарщики. На плече - лёгкая лестница, с помощью которой можно было добраться до фонаря, чтобы заправить и почистить его от копоти. Интересно, что в Уфе этим занимались пожарные. А первые пятьдесят фонарей в нашем городе появились ещё в 1837 году, случилось это через сто с лишним лет после аналогичного события в Петербурге. Прошедший век, правда, прогрессу способствовал мало: всё те же едва заметные огоньки на невысоких деревянных столбах. "Осветителем" России, как можно догадаться, был Пётр I: в 1718 году он утвердил проект "Устройства уличных фонарей Санкт-Петербурга". В 1730 году появился указ Сената об установке фонарей на столбах и в Москве. "Светильни" на столбах с фильтром, погруженным в конопляное масло, едва освещали лишь небольшое пространство вокруг себя. Но зато, если верить современникам, конопляное масло способствовало росту уровня жизни фонарщиков: они использовали его для улучшения вкуса своей каши. Кроме всего прочего, фонари были и крайне опасны: "Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие ещё, если отделаетесь тем, что он зальёт щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом", - писал Николай Васильевич Гоголь в повести "Невский проспект".
Когда цивилизованная Европа "экспортировала" в Россию моду на использование в качестве топлива для фонарей хлебного (иначе говоря, питьевого) спирта, фонарщики слишком быстро стали "выходить из строя": им, говоря профессиональным языком, всё становилось "до фонаря" (более современный вариант - "до лампочки"). Не всегда помогал и скипидар, добавляемый в топливо - некоторым такой "коктейль" даже казался крепче. Лишь внедрение в жизнь осветительного керосина спасло горожан от полного мрака (заметим попутно, что, возможно, именно это нововведение способствовало появлению словечка керосинить, ведь любой выпускник гимназии знал, что kero - это стакан*).
Мысль об использовании для освещения электричества была высказана ещё в 1802 году. В 1856 году, во время коронации Александра II, на башнях Московского Кремля загорелись дуговые электролампы, в апреле 1879 года на Литейном мосту Санкт-Петербурга установили электрические фонари с лампами системы Александра Николаевича Лодыгина. Когда в 1880 году первые электрические фонари зажглись в московском саду "Эрмитаж", публика, специально собравшаяся по этому случаю, восторженно рукоплескала.
Вопрос об электрификации встал в конце XIX века и перед уфимской думой. Право на строительство первой в Уфе и губернии электростанции было предоставлено специалисту фирм "Дюфлон и Константинович" в Петербурге и "Сотт, Гарлей и К0" в Париже уфимскому инженеру и предпринимателю Николаю Владимировичу Коншину. Здание электростанции было пристроено ко Второй пожарно-полицейской части по ул. Александровской (ныне К. Маркса). Сооружение её шло около двух лет, 1 февраля 1898 года она дала ток.
Мощность электростанции была относительно небольшой - около 600 кВт. Построены были и городские электросети. Общая длина проводов составила 10 вёрст. На многих перекрёстках появились тогда столбы высотой почти 13 метров с фонарями. Между городской управой и инженером Коншиным был заключен договор, согласно которому Коншин получил исключительное право на строительство линий электропередач в Уфе. Так что, когда владелец одной из уфимских бань Лаптев устроил для освещения своего заведения электростанцию и решил провести от неё провода до своей квартиры, расположенной неподалёку, городские власти запретили ему сделать это: крючкотвор Коншин в соглашении с Городской думой предусмотрительно исключил любую возможность конкуренции.
Доходило до анекдотов. Один из таковых преподнесла читателям газета "Уфимские губернские ведомости" в январе 1906 года: "Вечером в воскресенье 15 января посетители соединённого собрания только что вошли в азарт картёжной игры, как в собрании потухло электричество и так продолжалось несколько минут. На запрос в контору г. Коньшина по телефону - не спать ли лёг г. Коньшин? - ответили, что г. Коньшин также сидит впотьмах и приказал подать себе свечку, которая будет гореть гораздо надёжнее, чем электричество". Как видите, даже фамилия энергомагната дана с ошибкой (в те годы в Уфе на той же Александровской улице жил поручик Коньшин, может, корреспондент их просто перепутал?).
Вскоре после введения нумерации домовладений на уфимских улицах стал обсуждаться вопрос и о необходимости "повесить у своих ворот фонари с обозначением улицы и номера, а также и освещать их". Но дело это было никому не нужно, едва ли вообще таких фонарей по городу появилось больше двух-трёх: во всяком случае до сих пор не известны старые фотоснимки Уфы, где на домах видны были бы фонари. Зато лет шестьдесят назад эта идея стала претворяться в жизнь столь настойчиво, что найти дом без фонаря было практически невозможно: в вечернее время по улицам разъезжали конные милиционеры, следившие за тем, чтобы все фонари на домах освещались.
С постройкой в 1931 году Центральной электростанции на Непейцевской (Цэсовской) горе света на уфимских улицах стало неизмеримо больше. Но город "украшали" всё те же деревянные столбы. В середине 1940-х на главной уфимской улице - Ленина - появились светильники на растяжках (то есть тросах, протянутых между домами), правда, уже через год-два их сняли. Очевидцы рассказывают, что связано это было с волевым решением первого лица Башкирии С.Д. Игнатова, который, пользуясь своими связями в Москве, умудрился затормозить в Уфе несколько железнодорожных вагонов с металлическими опорами, следовавших, кажется, в Новосибирск. Изящные столбы вскоре уже стояли (и доныне стоят!) на улицах Ленина, Пушкина, Коммунистической, Карла Маркса. А в 1956 году на Советской площади и на новом мосту через Белую появились ещё более красивые фонари (точнее, опоры для фонарей).
Непривычные длинные светильники с люминесцентными трубками, появившиеся в центре города в конце 1950-х, оказались ненадёжными и потому не прижились. И уже лет сорок наш город освещают ртутные лампы. Конкуренцию им составляют, пожалуй, лишь лампы натриевые, дающие приятный золотистый свет.
Анатолий Чечуха |
|
 |
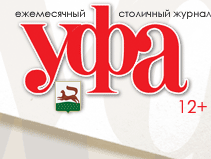




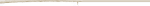





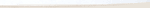
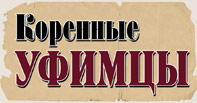
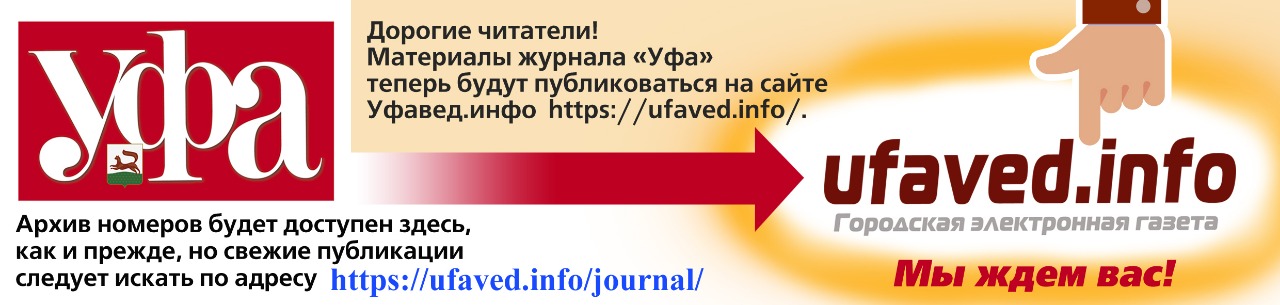
 История наружного освещения городов не покрыта мраком неизвестности. Всё, разумеется, начиналось с костров. Долгое время люди пользовались свечами, факелами. На греческом языке факел - fanos, уменьшительное от факел - fanarion (в словаре В.И. Даля, кстати, упоминается и второй вариант слова - "фанарь"). Так что слово фонарь происхождения очень древнего.
История наружного освещения городов не покрыта мраком неизвестности. Всё, разумеется, начиналось с костров. Долгое время люди пользовались свечами, факелами. На греческом языке факел - fanos, уменьшительное от факел - fanarion (в словаре В.И. Даля, кстати, упоминается и второй вариант слова - "фанарь"). Так что слово фонарь происхождения очень древнего.