 |
РУБРИКА "ARTEFAKTUS"Родина Нестерова
 В том же 1914-м появляется очередной вариант его картины «На родине Аксакова». Ничем вроде бы не примечательный сюжет - холм, на котором и Аксаков-то, скорее всего, никогда не был. Чем же он так привлёк внимание живописца, если за несколько лет появилось целых пять вариантов полотна? Причём, если самый первый из них - это этюд с натуры - с домиками на склоне и мостом через Белую, то позже все признаки города исчезают. На хранящейся в уфимском художественном музее картине, например, - полностью. А то вдруг у холма появляется фигура женщины. Или на её месте возникает монах-схимник с клюкой, а на самом холме, где при жизни художника стоял обычный домик (и где в 1967-м был установлен памятник Салавату), появляется часовня. После смерти уфимских родных это практически единственный посвященный Уфе сюжет (в 1935-м была ещё «Река Уфимка»). Первую из этой своеобразной серии картин кто-то (возможно, сам художник) назвал «Чёртово городище», что до сих пор смущает исследователей, ведь место с таким названием всегда находилось на берегу Уфимки. Но можно провести детальный анализ и сравнить детали картины с сохранившимися фотоснимками, к примеру, С.М. Прокудина-Горского. Изгиб реки, спускающаяся с холма дорога, даже разрывы и форма лесополос за Белой - всё совпадает в деталях. В том же 1914-м появляется очередной вариант его картины «На родине Аксакова». Ничем вроде бы не примечательный сюжет - холм, на котором и Аксаков-то, скорее всего, никогда не был. Чем же он так привлёк внимание живописца, если за несколько лет появилось целых пять вариантов полотна? Причём, если самый первый из них - это этюд с натуры - с домиками на склоне и мостом через Белую, то позже все признаки города исчезают. На хранящейся в уфимском художественном музее картине, например, - полностью. А то вдруг у холма появляется фигура женщины. Или на её месте возникает монах-схимник с клюкой, а на самом холме, где при жизни художника стоял обычный домик (и где в 1967-м был установлен памятник Салавату), появляется часовня. После смерти уфимских родных это практически единственный посвященный Уфе сюжет (в 1935-м была ещё «Река Уфимка»). Первую из этой своеобразной серии картин кто-то (возможно, сам художник) назвал «Чёртово городище», что до сих пор смущает исследователей, ведь место с таким названием всегда находилось на берегу Уфимки. Но можно провести детальный анализ и сравнить детали картины с сохранившимися фотоснимками, к примеру, С.М. Прокудина-Горского. Изгиб реки, спускающаяся с холма дорога, даже разрывы и форма лесополос за Белой - всё совпадает в деталях.
В 1915-м Уфимская городская дума избирает Нестерова почётным попечителем будущего уфимского музея. Откроется музей, правда, только через пять лет, уже при советской власти, но и тогда художник продолжал считать себя попечителем: он постоянно интересовался делами музея, через московские учреждения добивался передачи в Уфу новых экспонатов. А вот имя основателя музей получит только через тридцать с лишним лет после открытия.
Никогда мы, возможно, до конца не сможем понять, почему художник, столь нежно любивший свою Уфу, в последние почти тридцать лет своей жизни так в ней и не появился. Сначала была война, разруха - приехать в Уфу художник не смог бы, даже если бы и очень захотел. А потом он, должно быть, узнал, что на разорённом Ивановском кладбище не осталось и родных могил - матери, отца, сестры. Всё, что он так любил, было растоптано, полито грязью, уничтожено. Так что вряд ли он и хотел ехать сюда - после смерти сестры никто его здесь больше не ждал, а отцовский дом был продан. Кроме того, сильно сократилось число тех, кто вообще знал о существовании земляка-художника. «По несчастью или к счастью истина проста - никогда не возвращайся в прежние места», - строки эти, хоть и написаны через много лет после смерти Нестерова, и про него тоже.
Так что вполне возможно, что в том сентябре 1914-го художник предчувствовал всё это, а «На родине Аксакова» - это его прощание с Уфой, с местами, что очень долго живительными родниками подпитывали его творчество.
И ещё одна загадка Нестерова: почему, когда страна перешла на новый стиль календаря, он предпочёл отмечать день своего рождения не так, как это предписывалось наукой (19 мая 1862 г. соответствует 31 мая нового стиля), а 1 июня? Ответ может показаться очень простым: в «отменённом» численнике 1918 года 19 мая было субботним днём, а 31-е нового стиля выпадало на пятницу, т.е. на день раньше. Но можно вспомнить и то, что значило в его жизни 1 июня, вспомнить подпись под его рисунком, где была изображена его Маша в саване: «Последнее воскресенье. 1 июня 86 года. Дорогая, прости». И быстрый вывод уже не покажется столь очевидным.
Он любил женщин, они отвечали ему взаимностью. Но самая большая любовь его жизни стала и самым большим горем: первая жена художника Мария Ивановна умерла при рождении дочери. Он не раз писал её такой, какой помнил. А ведь зрительная память вообще-то не была сильной чертой его дара: вспомните рисунок «Первая встреча (Конский топ)», где художник весьма приблизительно повторил истинную картину улицы Успенской и одноимённого храма...
Много лет на месте снесённого кинотеатра «Октябрь» (изначально он назывался «Новый Фурор») висела доска, что, дескать, здесь стоял родной дом М.В. Нестерова. Но до места дома Нестерова отсюда ещё метров пятьдесят. Когда в 1956-м с благословения первого секретаря обкома С.Д. Игнатьева (того самого, что добился уничтожения Троицкой церкви) дом и флигель, где располагалась мастерская художника, снесли, привязок к местности вроде бы не осталось. Если не обратить внимание на электроопоры, или просто столбы: после сноса они стояли ещё полвека, пока в 2007 году их не поменяли на новые. Кроме того, есть несколько снимков усадьбы Нестеровых, сделанных А.А. Зирахом с балкона Аксаковского народного дома. А фотография, как известно, самый объективный свидетель. Кроме того, только она сегодня и может вернуть нам то, что когда-то было родным домом нашего великого земляка.
Анатолий ЧЕЧУХА |
|
 |
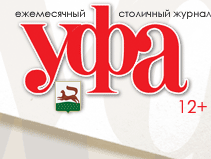




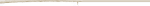





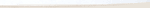
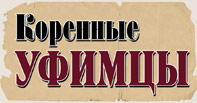
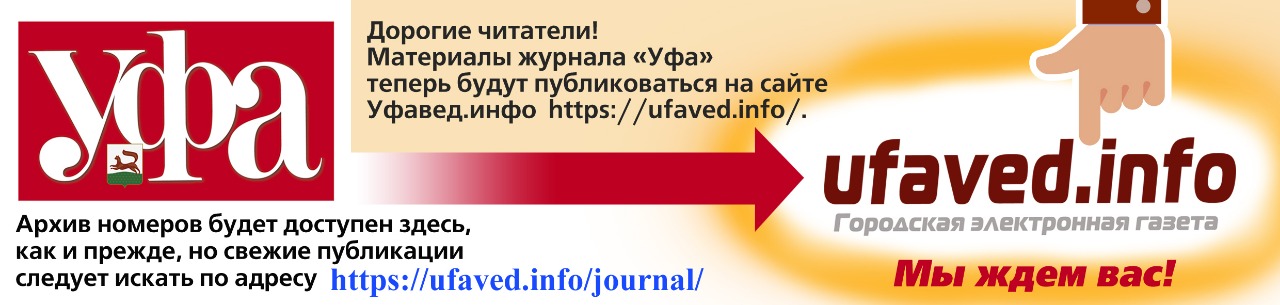
 В том же 1914-м появляется очередной вариант его картины «На родине Аксакова». Ничем вроде бы не примечательный сюжет - холм, на котором и Аксаков-то, скорее всего, никогда не был. Чем же он так привлёк внимание живописца, если за несколько лет появилось целых пять вариантов полотна? Причём, если самый первый из них - это этюд с натуры - с домиками на склоне и мостом через Белую, то позже все признаки города исчезают. На хранящейся в уфимском художественном музее картине, например, - полностью. А то вдруг у холма появляется фигура женщины. Или на её месте возникает монах-схимник с клюкой, а на самом холме, где при жизни художника стоял обычный домик (и где в 1967-м был установлен памятник Салавату), появляется часовня. После смерти уфимских родных это практически единственный посвященный Уфе сюжет (в 1935-м была ещё «Река Уфимка»). Первую из этой своеобразной серии картин кто-то (возможно, сам художник) назвал «Чёртово городище», что до сих пор смущает исследователей, ведь место с таким названием всегда находилось на берегу Уфимки. Но можно провести детальный анализ и сравнить детали картины с сохранившимися фотоснимками, к примеру, С.М. Прокудина-Горского. Изгиб реки, спускающаяся с холма дорога, даже разрывы и форма лесополос за Белой - всё совпадает в деталях.
В том же 1914-м появляется очередной вариант его картины «На родине Аксакова». Ничем вроде бы не примечательный сюжет - холм, на котором и Аксаков-то, скорее всего, никогда не был. Чем же он так привлёк внимание живописца, если за несколько лет появилось целых пять вариантов полотна? Причём, если самый первый из них - это этюд с натуры - с домиками на склоне и мостом через Белую, то позже все признаки города исчезают. На хранящейся в уфимском художественном музее картине, например, - полностью. А то вдруг у холма появляется фигура женщины. Или на её месте возникает монах-схимник с клюкой, а на самом холме, где при жизни художника стоял обычный домик (и где в 1967-м был установлен памятник Салавату), появляется часовня. После смерти уфимских родных это практически единственный посвященный Уфе сюжет (в 1935-м была ещё «Река Уфимка»). Первую из этой своеобразной серии картин кто-то (возможно, сам художник) назвал «Чёртово городище», что до сих пор смущает исследователей, ведь место с таким названием всегда находилось на берегу Уфимки. Но можно провести детальный анализ и сравнить детали картины с сохранившимися фотоснимками, к примеру, С.М. Прокудина-Горского. Изгиб реки, спускающаяся с холма дорога, даже разрывы и форма лесополос за Белой - всё совпадает в деталях.