 |
РУБРИКА "ЧИН ПО ЧИНУ"Виктор Пчелинцев: «Мы потеряли мастерового»
 - Виктор Александрович, а с чего начинается вхождение во власть? - Виктор Александрович, а с чего начинается вхождение во власть?
- Мне лично цыганка нагадала. Почти без шуток. Родился я в селе Григорьевка Альшеевского района. Сегодня его уже не осталось на карте – в начале 60-х пало жертвою укрупнения хозяйств. Отец мой с фронта пришел инвалидом первой группы – ногу потерял под сладким городом Изюмом во время знаменитого хрущевского наступления.
Наш дом в селе был крайним, и все, кто проезжал мимо, обязательно останавливались, чтобы набрать воды в колодце. И вот было мне лет пять, как всегда бегал по улице, играл со сверстниками, а был я тогда типичным сорвиголовой, а мимо проходила цыганка. Остановилась у нашего колодца, попросила воды испить. И когда мама набрала ей ведерко, цыганка и говорит, показывая на меня: «Ты не смотри, что он у тебя такой хулиганистый, вырастет – большим начальником будет». И как ни странно, жизнь меня действительно занесла в коридоры власти.
- Но это наверняка произошло не вдруг?
- Конечно, раньше кадровая политика строилась очень осторожно, к человеку долго присматривались, пробовали его на различных заданиях. Вот и ко мне, видимо, приглядывались еще до армии. В 1964-м после школы уехал на строительство трассы Бухара - Урал, где мы два года тянули газопроводную нитку. А потом меня забрали в армию, причем в погранвойска, а туда абы кого не брали – слишком велика ответственность. И служил я на знаменитой заставе имени Андрея Кижеватова, легендарного защитника Брестской крепости.
- И как прошли годы службы?
- Мой призыв был как раз последним, кому выпало служить три года. Удалось даже задержание нарушителя государственной границы провести. В этот день, завершив охрану государственной границы, с напарником возвращались на заставу. И по дороге заметил, что на сопредельной польской стороне кто-то у берега суетится. Было самое начало весны, вся река была в проталинах, и этот человек то и дело посматривал на лед. Я и говорю напарнику, давай-ка подождем, посмотрим, что дальше будет. И минут через десять нарушитель начал быстро-быстро переходить по тонкому льду на нашу сторону. И вот когда он оказался на нашем берегу, мы с напарником произвели его задержание. Как впоследствии выяснилось, перебезжчик был представителем какой-то секты. Мне дали отпуск, и даже сняли сюжет для Интервидения.
- А была ли у вас в юности мечта, которая была бы путеводной звездой?
- Мое поколение грезило покорением воздушных просторов, поэтому мечтал стать известным конструктором и рвался поступать в авиационный. Но после армии устроился сначала работать на моторостроительный завод (ныне УМПО), и там я увидел несколько иную картину и понял, что можно стать конструктором и всю жизнь вычерчивать на кульмане какую-нибудь второстепенную деталь, так и не приблизившись к своей мечте. А тут как раз мой сосед по комнате в заводском общежитии на Богдана Хмельницкого посоветовал мне пойти учиться в юридический институт. Конкурс тогда был 13 человек на место, но поступил я довольно легко. А в 1973 году партком завода меня рекомендовал в депутаты Калининского райсовета. И сразу попал в комиссию по борьбе с пьянством и тунеядством. Помню, как-то судили одного нашего рабочего за хищение, и меня как без пяти минут дипломированного юриста попросили быть его общественным защитником. Дело оказалось удачным, парень попал под обвинение случайно, и я уже стал видеть себя в судебной системе, но вновь вмешался случай. Вызвали в райком и сказали, что хотели бы привлечь меня к работе в качестве заворга. Вот так и сбылось предсказание цыганки. С февраля 1975 и вплоть до 1991-го работал в партийных органах.
- С какими ощущениями вы встретили тот переломный для страны год?
- Не буду скрывать, предчувствие нарастающих перемен нарастало. Уже в последние годы правления Леонида Брежнева был изменен принцип кадровой политики – тогда все чаще назначения совершались во время посиделок в бане, на охоте. В результате в управленческий аппарат стали попадать случайные люди, и это не могло не сказаться на качестве управления. У меня, как вы понимаете, никакой «волосатой руки» не было, поэтому подобная практика вызывала удивление и искреннее непонимание. Мое жизненное кредо всегда было простым: «Работать, и, прежде всего, над собой». И всегда боялся подвести тех людей, которые поручились за меня. По жизни я не служил начальникам, просто всегда пытался выстраивать вертикаль власти, чтобы она не провалилась в пустоту.
- Возвращаясь к 1991 году: вот вам исполнилось 44 года, а жизнь приходится начинать заново...
- Да, все именно так и было, меня под автоматами выводили из здания обкома партии, потому что не мог бросить партийные документы и учетные карточки. И три месяца оставался без работы. Потом пригласили в банк «Восток», предложили место начальника отдела, но я сказал тогда так: «Собираюсь складывать свою жизнь заново, у меня есть юридическое образование, поэтому готов начать с должности рядового юриста». И так начался новый период жизни. Вырос до должности вице-президента, отвечающего за развитие филиальной сети. За неполные пять лет на территории от Бреста и до Владивостока мы открыли семьдесят филиалов. Но в марте 94-го я вновь стал перед выбором – оставаться в коммерческой структуре и уже в ней продолжать реализоваться или вернуться в государственную систему. Выбрал второе. В марте 1994 года уже трудился в аппарате президентской администрации в качестве начальника управления по работе с территориями и кадровой политики.
- Не зря ведь умные люди говорили: «Кадры решают все». А вы можете сформулировать те принципы, на которых должна строиться кадровая политика?
- Надо понимать, что кадровая система – тот стержень, на котором все держится. В свое время КПСС это прекрасно понимала. К сожалению, даже сегодня ни один вуз не дает своим студентам основ правильной административной политики. Никто не учит их тому, что если ты работаешь в структуре власти, то несешь ответственность не столько за себя лично, сколько за саму власть. Мы сегодня на телевизионном экране гораздо чаще видим рассуждения о том, что происходит в Сирии, нежели о том, что происходит у нас под носом. Почему не получается порассуждать о том, как в дальнейшем стоит выстраивать управление государством, что в нем следует изменить для более эффективного функционирования? Какой профессор об этом расскажет в вузе? Почему раньше мы постоянно приходили в школы, вузы? Мы искали в них тех, кто потом сможет стать кадровым резервом. И к таким ребятам начинали приглядываться чуть ли не со школьной скамьи. Чтобы вырастить хорошего директора предприятия, требуются десятилетия. Сегодня же зачастую его пытаются создать за полтора-два года. В результате в кресло руководителя садится человек, не знакомый ни с коллективом, ни с технологией. А раньше руководитель такого уровня обязан был пройти все ступени: рабочий, мастер, старший мастер, начальник цеха, заместитель директора. И только так на выходе можно было получить человека, который мог с закрытыми глазами восстановить всю производственную цепочку. И вот тогда кадровая политика становится фундаментом, на котором можно ставить крепкое здание общества и государства.
- Вы возглавляете сегодня Собор русских Башкортостана. В чем видите главную миссию организации?
- Мне по жизни всегда везет: где тяжело, туда судьба и заносит. Меня пригласили и сказали, что надо отладить деятельность Собора. Я как бывший солдат взял под козырек. И, прежде всего, мы стали особое внимание уделять работе в районах, взаимоотношениям с другими народами республики. На мой взгляд, если русский человек будет чувствовать себя в своей стране комфортно и не допустит каких-либо ущемлений прав малых народов, тогда наша страна будет сильна и непобедима. И я вижу нашу задачу в том, чтобы не позволить кому-либо нарушить эту формулу государственного лада.
- А вот интересно, в самом начале своей карьеры как вы представляли жизнь в XXI веке?
- Тогда мы думали, что к этому времени все будем жить в космосе. Вокруг нас была великая, мощная страна, которая хоть и существовала за железным занавесом, но все производила сама и ни от кого не зависела. И, конечно, то, что я вижу сегодня вокруг себя, не совпадает с теми юношескими представлениями. Мы очень многое потеряли и теперь наверстываем с большим трудом. А главное, что мы потеряли – мастерового. Раньше на Руси он мог сделать все – и лошадь подковать, и серп отбить, и сапоги стачать. А сегодня приезжаю в деревню, спрашиваю местных: «Почему корову не держите в хозяйстве?». Отвечают: «Нерентабельно». И вот это страшно, когда на селе становится не выгодно вести сельское хозяйство. Я всегда в такие моменты вспоминаю своего отца, который вернулся с войны без ноги. Он выходил на покос, ставил культю на костыль и косил траву сквозь слезы и боль. И он никогда не говорил, что «это нерентабельно».
Владимир ГЛИНСКИЙ |
|
 |
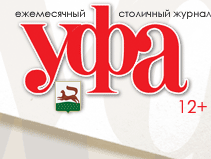




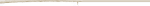





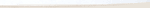
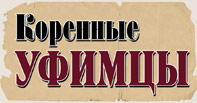
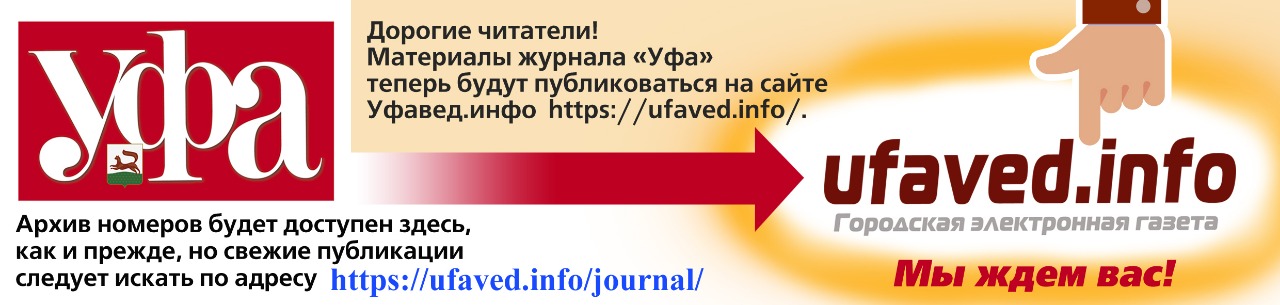
 - Виктор Александрович, а с чего начинается вхождение во власть?
- Виктор Александрович, а с чего начинается вхождение во власть?