 |
РУБРИКА "ARTEFAKTUS"Из жизни Шаляпина
 О том, что связано с именем Ф.И. Шаляпина в Уфе, казалось бы, всё известно. Написаны всеобъемлющие статьи, даже книги. И всё же я хочу обратить внимание на два теперь уже полулегендарных уфимских события, главным героем которых был великий певец. О том, что связано с именем Ф.И. Шаляпина в Уфе, казалось бы, всё известно. Написаны всеобъемлющие статьи, даже книги. И всё же я хочу обратить внимание на два теперь уже полулегендарных уфимских события, главным героем которых был великий певец.
Два Фёдора
19 февраля 1891 года Шаляпин дарит артисту Жилину свою фотографию с надписью: «Дорогому Михаилу Михайловичу г-ну Жилину от почитателя, его бывшего сослуживца в г. Уфе в сезон 1890/1891 г. Федора Ивановича Шаляпина на память». О том, что снимок тот начинающий артист сделал в фотозаведении Ф.Я. Анисимова на Большой Казанской, знают многие, но в каком конкретно доме на нынешней улице Октябрьской революции он снимался, оставалось предметом догадок.
В начале ХХ века в Бирске был очень популярен фотограф Ф.Я. Анисимов. Если кто сомневается, что речь об одном и том же человеке, взгляните на фотографию: на сделанной в типографии паспарту над словами «в Уфе» стоит каучуковая надпечатка – «в Бирске». И чуть ниже читаем: «На Казанской, против аптеки Янчевского», – ну, конечно, и в те времена абсолютно все знали, где находится аптека. Но нам-то от этого не легче. На плане г. Уфы 1897 года фотозаведения не указаны, зато аптека Янчевского имеется – чуть ниже нынешней улицы Цюрупы по нечётной стороны улицы Октябрьской революции. Но напротив неё – здание… полиции, да ещё и с пожарной каланчой. На одном из старых фотоснимков вывеска этой аптеки видна, а на соседнем доме хорошо читается вывеска «конкурирующей фирмы»: «Германъ. Художественная фотографiя». О конкуренции как-нибудь в другой раз, а пока придётся согласиться с тем, что к концу века аптека Янчевского сменила адрес, иначе бы надпись у Анисимова была, несомненно, другая, например, «в доме полиции». Кстати, отсюда следует ещё и то, что последние уфимские снимки Анисимова были сделаны до 1897 года.
И что дальше? К счастью, есть в Доме-музее Аксакова ещё одна фотография середины 1880-х годов, сделанная тоже в ателье Анисимова, на её обороте немного другая расшифровка: «Против кондитерской Городецкого, дом Волкова». Согласно переписи 1879 года Андрею и Дарье Городецким (вероятно, брату и сестре) в начале 1880-х принадлежали на Большой Казанской два дома. А напротив них находился участок Виктора Волкова. В справочнике 1908 года Городецкие уже не фигурируют, зато Виктор Осипович Волков владеет домом (точнее, земельным участком) под №26. Если учесть смещение в 1920-х нумерации на один номер, то получается, что заведение Анисимова находилось в нынешнем доме №28.
Да, дом дожил до наших дней, но ничего «фотографического» в нём не наблюдается. Разве что можно предположить, что левое, чуть отдалённое от двух других окно, когда-то было входом в заведение Анисимова. Других следов просто нет. Вы спросите – что же там может быть необычного? Вот и дом с фотоателье О.Ф. Герман ничем, кроме вывески, от других не отличается. Но дело в том, что до появления электричества съёмка велась при естественном освещении (до появления электростанции в 1898 году заведение Анисимова не дожило). Держатели для головы – копфгальтеры (headrest) с появлением сухих бромжелатиновых пластинок и практически моментальных выдержек при портретировании в конце позапрошлого века ушли в небытие, но света всё равно нужно было много. На первый взгляд кажется, что лучше всего в этом деле поможет дневное светило. Но быстро передвигающееся по небосводу солнце кроме яркого света давало бы массу резких теней от рам. Поэтому стеклянный шатёр, подобный тому, что ныне украшает главный корпус Национальной библиотеки на улице Ленина, воздвигался с северной стороны фотоателье. Взгляните свежим взглядом на давно известные снимки – на некоторых из них вы сразу увидите странные надстройки над крышей.
С домом разобрались, но интересно бы ещё узнать и имя Анисимова: Федот, Фёдор или, к примеру, Филипп? Жил в Уфе в 1879 году на улице Ханыковской (позже Гоголевской) некий Фёдор Анисимов, но он ли это? Впрочем, ответ на этот вопрос легче найти в Бирске: тамошние краеведы сразу скажут, что фотографа Анисимова звали Фёдором Яковлевичем.
P.S. Дочь Шаляпина Марина Фёдоровна, правда, настаивала на том, что на фотографии изображён не её отец. Но от фактов никуда не денешься: Уфа, 1891 год и автограф Фёдора Ивановича.
Эх, дубинушка…
Что написано пером, то не вырубишь… – мы много раз убеждались в правоте этих слов. Тем не менее, возьмём в руки топор… Впрочем, нет, лучше дубину. Итак, в книге «Вооружённое подполье» А. Соколова-Новосёлова (Баш-
книгоиздат, 1958 г.) читаем: «Знаменитый оперный певец и артист Фёдор Иванович Шаляпин приехал в Уфу к своему знакомому по клиросу кафедрального собора, токарю железнодорожных мастерских Григорьеву. Наши клубные деятели узнали об этом и привезли Фёдора Ивановича прямо с дружеской вечеринки в клуб, где закончилось представление чеховской «Чайки». Народ терпеливо ждал Шаляпина. Его появление приветствовали бурей аплодисментов. С добродушной улыбкой он подошёл к рампе: «Что же вам спеть, други? Ещё освистаете меня».
Кто-то озорно свистнул.
- Вот видите, – засмеялся Шаляпин, – уже освистали. Так что же спеть?
- Дубинушку! – крикнули из зала.
Шаляпин хитро улыбнулся, погрозил пальцем, затем лихо тряхнул чубом, выпрямился и, слегка расставив длинные ноги, задумчиво запел:
– Много песен слыхал я
в родной стороне,
В них про радость
и горе мне пели…
Убедительные слова эти считаются абсолютно реальным фактом, даже предлагается установить доску в память события. О даре убеждения чуть позже, а пока о фактах. Берём книгу «Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина», углубляемся в 1904 год. Странно, Уфой даже не пахнет. Может, событие сочли незначительным и не включили в летопись жизни певца? Тем не менее, восьмидневная «проклятая инфлюэнца» там отмечена…
Обратимся к источнику гораздо менее надёжному – Всемирной паутине. Есть! Почти те же слова, та же «Дубинушка», только действие почему-то происходит в… Харькове. Но и в Харькове в
1904-м певец не был, гастроли его прошли там только в конце апреля 1905 года. Именно тогда он выступил в рабочем клубе, о чём упомянул и в книге своих воспоминаний «Страницы из моей жизни». Правда, датировал это событие (ошибочно!) 1904 годом. Уж не в этом ли кроется отгадка?
Впрочем, может, и в Уфу Шаляпин заехал в революционном
1905-м? Газета «Уфимские губернские ведомости» за 1905-1906 годы очень хорошо представлена в Архиве общественных организаций РБ, есть в подшивках десятки упоминаний о великом певце, творческая карьера которого начиналась по большому счёту именно в Уфе, вот только о приезде в наш город, как ни странно, – ни слова! «И всего-то надо было дня четыре, чтобы втихаря приехать к приятелю в Уфу. Сел на поезд, выступил в рабочем клубе – делов-то, – скажут некоторые. – А цензура поработала, изъяла». Но в напряжённом графике артиста мирового уровня, каковым Фёдор Иванович на тот момент уже являлся, даже день незамеченным не мог пройти. Да и закручивать гайки цензура начала при губернаторе Ключарёве, в конце 1905-го, но никакая цензура уже не в силах была полностью вымарать имя Шаляпина из газет. Кроме того, в «Летописи жизни и творчества» об Уфе вновь ни слова.
И придём мы к печальному выводу, что все эти воспоминания никому не ведомого Григорьева (обратите внимание – ни имени, ни отчества), приведённые аж в двух книжках (второй, «Винтовка и молот» Вадима Иванова, я, правда, не нашёл) есть всего лишь одна из занимательных уфимских народных сказок, подобных байке о доме терпимости в особняке Костерина в самом центре Уфы.
А дело было так: в 1916 году два приятеля, Шаляпин и Горький, засели за работу по подготовке воспоминаний Фёдора Ивановича. В результате уже в следующем году в журнале «Летопись» (№ 1-12) была опубликована первая половина «Страниц из моей жизни». Была там, кстати, и Уфа. В 1930-х, творчески переработав харьковский эпизод с выступлением певца в рабочем клубе, Максим Горький вставляет его в свою «Жизнь Клима Самгина».
В августе 1927-го как приспешника белоэмиграции Шаляпина лишают звания Народного артиста. В 1956-м по линии Министерства культуры была предпринята попытка вернуть Шаляпину звание Народного артиста Республики, хотя бы и посмертно. Но не вышло. На этой волне и появились шаляпинские эпизоды в книжках Соколова-Новосёлова и Иванова. Так что не будем судить их строго, ведь именно реабилитация Шаляпина как большого друга рабочих, помогавшего делу революции и ее «буревестнику» Горькому, создала очень серьёзные условия для возвращения имени великого певца и артиста в культуру. А для наших краеведов именно тогда началась целая эпопея по поиску уфимских адресов Фёдора Ивановича.
Анатолий ЧЕЧУХА |
|
 |
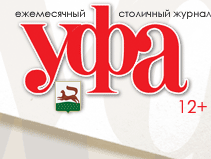




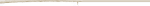





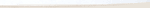
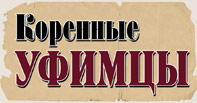
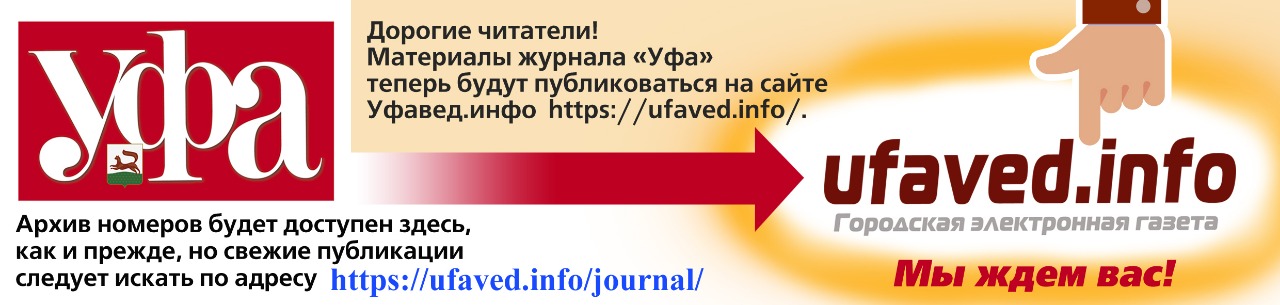
 О том, что связано с именем Ф.И. Шаляпина в Уфе, казалось бы, всё известно. Написаны всеобъемлющие статьи, даже книги. И всё же я хочу обратить внимание на два теперь уже полулегендарных уфимских события, главным героем которых был великий певец.
О том, что связано с именем Ф.И. Шаляпина в Уфе, казалось бы, всё известно. Написаны всеобъемлющие статьи, даже книги. И всё же я хочу обратить внимание на два теперь уже полулегендарных уфимских события, главным героем которых был великий певец.