 |
РУБРИКА "УФИМСКИЙ ХАРАКТЕР"Роберт Юлдашев: «Выкинь фантик, оставь душу»
 -Что пророка в своем Отечестве не чтят - это явно не про вас... -Что пророка в своем Отечестве не чтят - это явно не про вас...
- Да, наверное. (Улыбается). Знаете, на самом деле это очень важно - быть признанным у себя на родине. Есть такая древняя поговорка: «Чем быть султаном у чужого народа, лучше подметкой у своего». Для меня это звание - большая награда. Я счастлив. Просто хотелось проверить: а бывает ли так, что ты за наградой не ходишь, не бегаешь по инстанциям, а тебе ее вручают. Оказалось, бывает. Надо просто заниматься своим делом.
- Меняется ли отношение к народной музыке?
- Да, уже прослеживается такая тенденция. Народная музыка - мелодии из глубины веков, прошедшие отбор временем, ведь доходит только самое лучшее. Она несет в себе удивительный заряд. И люди, которые воспитаны на своей культуре, слушают или же воспроизводят народную музыку - не важно, пением или танцами, - с таким же уважением относятся к другим культурам. На днях был на концерте певицы Эйвор. Она стала для меня настоящим открытием. Эйвор родом из Дании, исполняла народные песни. И я еще раз на себе лично убедился, как музыка действует, если она идет от сердца. И перевод ей не нужен. Многие мужчины в зале даже прослезились. А потом говорили, что, когда Эйвор поет, Селин Дион может съездить на уик-энд. Ей есть достойная замена.
- А как принимают на Западе нашу музыку?
- Думаю, примерно так же. Уже с первых секунд воцаряется тишина, создается такое ощущение, что каждую нотку, каждый звук впитывают. Такое внимание от нашей публики получишь не всегда: все-таки сохранилось это отношение к кураю, как к осколку прошлого. Людям надо дать несколько минут, прежде чем музыка до них дойдет, начнет заводить. Тогда начинают слушать.
- А вы пробовали исполнять народные мелодии в Европе вне концертного зала, для неподготовленных слушателей?
- Да, во время гастролей было время - решили поэкспериментировать. Я просто достал курай и стал играть. Так нам за полчаса накидали очень приличную сумму: они почему-то решили, что мы нуждаемся в деньгах (улыбается). Ведь главное - играть с отдачей, от сердца. Тогда народ будет собираться. А когда просто делаешь вид, что играешь, все разбегутся.
- Говорят, что музыка у вас в крови. Ваш дед продал дом, чтобы купить патефон. Это правда?
- Правда. Кстати, и мама, и бабушка почему-то это от меня скрывали. Рассказал дядя, когда мы с ним ездили смотреть место, где стоял этот дом. Мой дед был бакенщиком, жил на берегу реки, зажигал маяк для проходящих мимо кораблей. Тогда семье пришлось переселиться в баню. Хорошо, дело было весной, и к зиме дед успел срубить новый большой дом. Он был на все руки мастер. Да, думаю, и стимул был хорошим. Когда остаешься на улице, назад хода нет, только вперед. Зато и музыка была, и новый дом.
- Есть такое убеждение, что на народных инструментах играют в основном те, кто сам родился и вырос в деревне. А вы себя кем ощущаете больше - городским или деревенским жителем?
- Скажу честно: завидую тем, кто родился на селе. К счастью или к несчастью, я-то ребенок асфальта - коренной уфимец... Но у меня была возможность каждые каникулы ездить в деревню. Там я и коров пас, и овец, и сено косил, и на коне верхом ездил. Пил кумыс и парное молоко, вдыхал запах травы, наблюдал, как пчелы собирают мед... Очень грустно, что сейчас люди теряют связь с землей, отделяются от природы. А ведь надо понимать и ценить, что земля живая, что каждая травинка, дерево, человек - все взаимосвязано. Недавно смотрел с детьми мультфильм, где животные остались без воды, так как источник пересох. И когда они рыли колодец, то, вытаскивая очередной черпак земли, говорили: «Воды нет, опять эти бриллианты и золото». А мы забываем об истинных ценностях, которые как раз и идут через народное творчество. Не понимаем того, что самое ценное - рядом. И надо уметь его беречь. От каждого из нас зависит, останется ли после нас выжженная почва, как в фильме «Кин-дза-дза», или же мы сохраним ее зеленой и цветущей.
- Такая связь с природой, наверное, лучше помогает прочувствовать народные мотивы. О чем вы думаете, когда играете на курае?
- С этим связана удивительная вещь. Сам для себя сделал открытие, когда выступал в «Ла Скала». Играя, представлял себе Уральские горы, пение птиц, нашу природу. А после концерта ко мне подошла женщина и призналась: пока она слушала музыку, ей пригрезились Альпы… Надо сказать, что публика «Ла Скала» - потомственные меломаны, на этот концерт приехали люди из разных стран - Австралии, Америки, Англии. Во время выступлений не было никаких видеопроекций и других спецэффектов - просто черный
задник и белый свет, но они сумели понять то, что я переживаю, что пытаюсь до них донести, поняли саму музыку. И в тот момент пришло осознание, что, когда человек остается наедине с музыкой и его ничто не отвлекает, он может освободиться от всего и погрузиться в свой мир - и в итоге лучше чувствовать музыку и исполнителя. Фантик (все эти шоу) не важен. Главное - сама суть.
- Вы выступали дуэтом со многими музыкантами, причем разными. Николай Носков, Пелагея, Гарик Сукачев... Насколько трудно под них подстроиться?
- Честно говоря, такие союзы возникают очень естественно, почти случайно. Например, недавно в Уфу приезжала группа «Аквариум». А Борис Гребенщиков, будучи ведущим радиопередачи, поставил в эфире нашу музыку и рассказал о выступлении на фестивале «Сотворение мира». Мы хотели его просто поблагодарить, пришли перед концертом с башкирским медом. И тут он нас узнал и сказал, что хочет, чтобы я выступил с ним. В итоге пришлось отправить водителя за костюмом, а самому хотя бы как-то подготовиться. Удалось «репетнуть» буквально пару тактов с клавишником, 30 секунд репетиции, и вот мы уже на сцене. Но все получилось. Никто в зале даже не понял, что это была импровизация... Когда музыканты на одной волне, то и их творчество созвучно. Борис Гребенщиков мне рассказал, как он видит эту песню, что чувствует, а я попытался ее нарисовать звуками, как художник красками.
- Планируете продолжить сотрудничество?
- Да, пригласили «Аквариум» выступить летом на нашем концерте-фестивале у подножья горы Торатау. Надеюсь, что все получится.
- У нас много талантливых людей, но сама культурная жизнь протекает как-то вяло, в отличие от тех же Перми и Екатеринбурга...
- Пусть остаётся, как есть. В этом спокойствии какая-то гармония. Когда в Москве в часы пик я выхожу на улицу, то становится не по себе. Толпы людей куда-то спешат. И ты понимаешь, что большая часть из них даже не представляет себе, куда и зачем... И это немного страшно. А у нас спокойно, размеренно. Есть время подумать, для чего ты пришел в этот мир...
- Никогда не расстаетесь с кураем?
- Стараюсь.
- А любимый инструмент есть?
- Да. (Роберт открывает футляр, где рядком лежат семь кураев, и достает тростниковый - казалось бы, самый невзрачный среди лакированных и гладких собратьев.) Вот он. Для меня его срезал один аксакал. Сам стебель был кривой, неказистый, неправильно засохший. Честно говоря, принял его только из уважения к старику. Ножом прорезал отверстия, попытался поиграть, но ничего не получилось... Тогда аксакал взял его у меня, погладил и что-то прошептал. И с этого вечера, даже если инструмент мне не нравился, даже если он не звучал, я постоянно на нем играл. И в какой-то момент он зазвучал. А через два месяца я уже играл на нем в «Ла Скала».
- Помните, как вы в первый раз сыграли на курае?
- Конечно. Даже помню тот момент, когда я его впервые услышал. Я был тогда в классе третьем или четвертом. У меня даже мурашки по всему телу пошли, когда курайсы Талип Латыпов стал играть. С тех пор я дул во все трубки, пока не нашел своего учителя Адигама Искужина.
- А играете на каких-нибудь других инструментах?
- Получил образование по кларнету. Барабаны, наверное, есть в крови у каждого. А когда делаю музыкальные зарисовки, то и домбру беру. Музицирую, а потом уже - к аранжировщикам.
- Постоянно экспериментируете?
- Да, вот, кстати, на днях едем в Санкт-Петербург на II Международный музыкальный турнир «Терем Кроссовер», где будут соревноваться 150 музыкантов из 12 стран мира. Все они творят в стиле «кроссовер» - то есть смешение жанров и направлений, без ограничений и рамок. Мы уже прошли первый этап турнира. Впереди еще два. Работаем по олимпийскому принципу: «Главное - не победа, а участие». Там феноменальное жюри, в составе которого и семикратный обладатель «Грэмми» Пол Уинтер, разработавший немало музыкальных проектов, и самый известный музыкант в Японии Ясухиро Кобаяши.
Алия АХТАРИЕВА |
|
 |
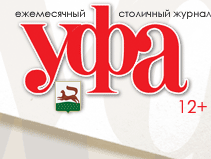




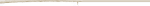





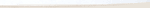
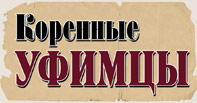
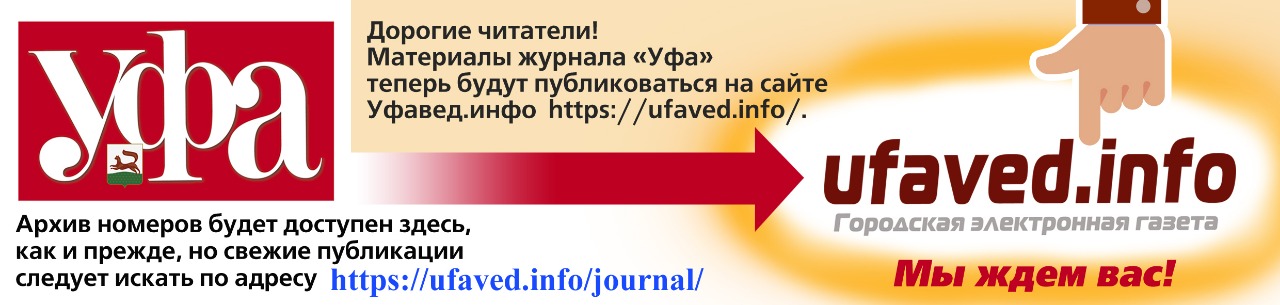
 -Что пророка в своем Отечестве не чтят - это явно не про вас...
-Что пророка в своем Отечестве не чтят - это явно не про вас...